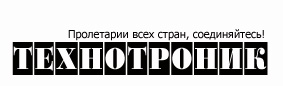ПОВЕСТЬ: Мужественной работе сотрудников МВД СССР посвящены многие романы, фильмы и спектакли. Следователи, сотрудники уголовного розыска и ОБХСС — все эти люди опасной и благородной профессии стоят на страже закона, охраняя достоинство и труд советских людей.
Писатель Юлиан Семенов, известный советскому читателю по целому ряду произведений («Майор Вихрь», «Петровка, 38», «Бриллианты для диктатуры пролетариата» и другим), закончил новую повесть о людях этой профессии «Огарёва, 6». Полностью она будет напечатана в журнале «Октябрь». Мы предлагаем вниманию читателей отдельные главы из повести, в которых рассказывается об изобличении опасного преступника.
ПОСТРАДАВШИЙ ИСЧЕЗ
«На два часа полковнику Костенко был назначен прием у заместителя министра. Полковник надеялся, что дело, которое он безуспешно разматывал в течение последних сорока дней, после сегодняшнего доклада генералу перейдет в более спокойную фазу, но уже утром он получил новую сводку: «Вчера ночью в Свердловске в городской больнице № 52 от отравления, идентичного тому, которое проходило по эпизодам в Минске и Ленинграде, скончался Кинадзе Шота Иванович, из Тбилиси. Данные прилагаются. Дежурный по управлению Бурмистров».

Кинадзе, как и те двое в Минске и Ленинграде, приезжал покупать машину. Это единственное, что удалось установить точно. Кто-то встретил его возле магазина и обещал помочь взять «Волгу» без очереди. Потом он шел к себе в гостиницу, выпивал в номере, чтобы «обмыть» сделку и обговорить детали. В водку было подмешано снотворное, но, вероятно, преступники не знали дозировки, поэтому, обворовав уснувших людей, они уходили, не ведая, что тащат за собой «мокруху» — за сорок дней было убито три человека… Судя по почерку, действовала одна и та же группа. Впрочем, во всем деле была одна серьезная и неожиданная странность — ни разу, ни
на одном месте происшествия не удалось получить отпечатки пальцев преступников. На столе были лишь те стаканы, из которых пили жертвы. На бутылках были обнаружены только отпечатки пальцев убитых.
Опрос всех тех, кто мог хоть что-то знать об обстоятельствах, при которых были совершены убийства, .ничего не дал. Костенко и его группа по поручению следователя по особо важным делам МВД СССР допросили десятки людей — работников автомагазинов, гостиниц, аэропортов, вокзалов, сберкасс, телеграфа, среди которых могли быть свидетели, но, сколько они ни бились, найти хоть какие-то подступы к делу не могли…
Спецгруппы, выделенные МВД Грузии и Армении на контакт с Костенко, также занимались розыском всех родных и знакомых погибших, прошли по всем их связям, опросили всех работников телефонных станций, подняли на почте регистрационные книги — искали адреса и фамилии людей, которым в последние недели убитые отправляли телеграммы. Но и это не дало никаких результатов.
Получив приказ срочно вылететь в Свердловск, Костенко вернулся к себе в кабинет, позвонил домой, попросил Машу собрать «допровскую корзинку» — свой маленький потрепанный чемодан.
Потом он оформлял командировку в Свердловск, получал билет на самолет и, наскоро заглянув домой, уехал на аэродром, чтобы успеть на последний рейс — так, чтобы с утра начать работать в областном управлении — устанавливать свидетелей, ворошить досье на автомобильных спекулянтов и просматривать во всех аптеках рецепты с треугольной печатью — на сильнодействующее снотворное.
В девять утра Костенко проводил первую беседу. Кассир автомагазина, которую он попросил вызвать первой, сказала, что за два дня до убийства в помещении «толкались трое новеньких».
— Мы ж завсегдатаев знаем, товарищ полковник, они как родственники, а эти, новенькие-то, из восточных, один небритый, по-своему говорили. А как это все случилось — их у нас больше и не было.
Костенко обернулся к начальнику угрозыска:
— У вас фото завсегдатаев есть?
— Кое-что подобрали.
Костенко разложил перед женщиной девятнадцать фотографий.
— Это Григорий Яковлевич,— быстро заговорила она, перебирая фотографии, как карты в пасьянсе,— Борисов, пенсионер, он и как слесарь хороший, а это Егор-кривой, его фамилия Кривых, только он тут снят до болезни, полный еще, у него, говорят, сейчас язва, а все равно как на работу каждый день к нам ходит, а это Петр Павлович, нет, тех новеньких здесь нет.
— Одни старенькие? — спросил Костенко.— Ладно. Пройдите с товарищами, расскажите подробно о внешности этих новичков — рост, цвет глаз, вам там объяснят, что нас интересует.
— Словесный портрет? — спросила кассирша.— Об этом по телевизору показывали. Только они у меня в голове смешались, помню — небритый один, и все.
Потом он беседовал с вдовой Кинадзе. Женщина в черном, маленькая, седая, в слезах, прилетела с первым тбилисским рейсом. Ее привезли в управление, потому что Костенко знал по опыту: пусти ее сначала в морг — разговор не получится. Так уже было в Минске и Ленинграде: вдовы кричали, рвали на себе волосы, падали в тяжелом беспамятстве…
— Кому же он мог звонить? — шепотом сказала женщина. — Кому телеграммы посылать? Никого у нас нет… Он честным трудом деньги заработал, он домой только на воскресенье приезжал, а так все в совхозе да в совхозе… За что такое горе нам, за что?! Говорила я ему, не езди, не надо, жили без машины пятьдесят лет, проживем еще, сколько бог отпустит.
— Значит, никто из ваших знакомых ему не обещал свою помощь, не давал адреса в Свердловске?
— Нет… Все говорили, что можно по доверенности оформить, вот он и поехал… Господи, за что же, за что?!
Убийство произошло в гостинице, в номере, который снимал Кинадзе. Костенко попросил выяснить во всех гостиницах города — кто останавливался за три дня до преступления — «один с бородой, а может быть небритый, самый высокий — в плоском кепи с длинным козырьком».
Через два часа ему сообщили, что в гостинице «Урал» за три дня до преступления номер «люкс» был снят неким Гомером Барамия, уроженцем Тбилиси, 1935 года рождения, который был «высок, в кепи с длинным козырьком».
Костенко связался по «ВЧ» с заместителем начальника грузинского угрозыска полковником Серго Сухишвили, и тот выяснил, что Гомер Барамия, доктор технических наук, действительно вылетал в Свердловск по командировке Академии наук сроком на три дня, на защиту кандидатской диссертации в Политехническом институте, где он был оппонентом аспиранта Кутепова.
— Был бы еще химиком,— усмехнулся Костенко,— куда б ни шло, а тут чистая техника — трубопрокат; к снотворному, судя по всему, товарищ Барамия отношения не имеет.
Костенко позвонил в Москву, попросил установить, в каких городах есть автомагазины, и предложил поработать над версией «трех новеньких», срочно выделив спецгруппы из райотделов милиции.
Опрос работников аэропорта и вокзала также не прибавил ничего нового. Костенко пообедал вместе с начальником угрозыска и отправился в гостиницу, где произошло убийство, но его вызвали оттуда в управление, потому что позвонили из министерства и сообщили, что час назад в Москве в гостинице «Украина» в номере 903 обнаружен находившийся в бессознательном состоянии гражданин Урушадзе. Он был отравлен тем же ядом и таким же способом, как и все остальные, проходившие по делу.
Костенко вылетел в Москву с первым проходившим через Свердловск самолетом. Появился свидетель—врачи обещали спасти Урушадзе. Судя по всему, он выпил не смертельную дозу снотворного.
Однако повидать гражданина Урушадзе не удалось, поскольку он сразу же после того, как пришел в сознание и был помещен в отдельную палату, из клиники исчез.
Забрав в регистратуре его паспорт, Костенко приехал в министерство, снова позвонил к Сухишвили и через час получил сообщение, что интересующий Москву Урушадзе Константин Ревазович в настоящее время находится в санатории «Металлург», где он работает в качестве садовника, а по совместительству, в зимнее время — истопника, и что в последние дни из Гагр он никуда не выезжал. Сухишвили сообщал также, что о потере паспорта Урушадзе заявил в милицию еще месяц назад.
— Оштрафовали хоть? — хмуро поинтересовался Костенко.
. — Нет,— ответил Сухишвили.— Безногий старик, инвалид войны, ограничились порицанием. Тем более его сын — наш работник.
— Семейственность разводите,— пошутил Костенко.— Ладно. Вы отработайте там, когда, где и при каких обстоятельствах у старика исчез паспорт. Здесь фотография на паспорте хорошо приляпана — мужчина лет тридцати, совсем не инвалид… Я вам вышлю оттиск сегодня же — посмотрите по картотеке, Серго.
Опросив персонал, Костенко выяснил только одну деталь: после того как Урушадзе пришел в себя, он сразу же спросил, где находится его чемоданчик с документами. Когда ему ответили, что чемоданчика в номере, откуда его забрали в клинику, не было, он попросил принести сердечные капли, а вскоре после этого сбежал.
ВЕЧЕР ИНТЕЛЛИГЕНТНОГО БАНДИТА
—. Позвольте мне поднять этот бокал за режиссера,— сказал Виктор Кешелава,— а в его лице за всю вашу группу. Мы, как я убедился сегодня, побывав на съемочной площадке и посмотрев вашу работу, ничего не знали о вашем, иначе и не скажешь, рабском труде…
— Творчество — это свобода раба! — крикнул ассистент оператора Нодия.— Вам, инженерам машин, не понять инженеров душ!
— Не перебивайте,— попросил оператор, избранный тамадой на сегодняшнем субботнем вечере в «Эшерах».— Продолжайте, Витя.
— Ваш труд,— продолжал Кешелава,— я хотел бы сравнить с трудом виноградаря. Мало кто знаэт, как много пота уходит на то, чтобы вырастить гроздь, напоенную солнцем, мало кто знает, как много труда уходит на то, чтобы снять эту гроздь, мало кто знает, сколько труда уходит в те дни, когда виноград превращается в черный сок, а этот сок становится белым вином… Зритель, как покупатель. Ни тот, ни другой не знает, сколько кровавого пота уходит на то, чтобы сделать бутылку вина и чтобы создать фильм. Я пью за труд вашего замечательного режиссера, за здоровье большого художника Григория Михайловича…
— Михаила Григорьевича,— поправил Нодия,— имя режиссера — это вам не сумма слагаемых!
— За здоровье большого мастера, настоящего художника Михаила Григорьевича,— продолжал Кешелава, быстро глянув на Нодия.— Пусть он вкусит плоды своего труда как виноградарь, которого славят в песнях благородные горцы… Мы все знаем Михаила Григорьевича как выдающегося представителя советской кинематографии, соратника великих мастеров мирового кино… За вас, мой дорогой! Всего вам лучшего! Исполнения всех ваших желаний!
Михаил Григорьевич тяжело вздохнул: вчера из Ленинграда пришла телеграмма, в которой говорилось, что отснятый им материал худсовет раскритиковал, а этот фильм был последней его ставкой — предыдущие картины режиссера справедливо критиковали за серость и холодное ремесленничество.
— Спасибо,— сказал Михаил Григорьевич, поднявшись. Маленькие глаза его после двух рюмок становились кроличьими, красно-синими,— спасибо, Виктор… Но я хочу, чтобы вы все выпили со мной не за выдающихся, а за средних режиссеров — на них стоит мировой кинематограф, на их сединах и инфарктах рождаются Феллини, Антониони и прочие Кончаловские с Михалковыми. Будем здоровы.
Актриса, прилетевшая из Москвы на съемки, чуть усмехнулась: если бы не срочная надобность в деньгах, она бы никогда не согласилась сниматься у этого режиссера, но она строила квартиру, и надо было вносить второй взнос, и поэтому ей пришлось взяться за работу, в которую она не верила.
Кешелава подсел к актрисе и сказал:
— Вы сегодня покорили меня своим искусством, Леночка… Я смотрел, как вы изумительно работали на площадке… Как тонко…
— Экран покажет…
— Что?
— Это поверье у актеров. Экран покажет, как снималась — хорошо или плохо…
— Вы не верите простому зрителю? — Не верю.
— Отрываетесь от народа, Леночка, нехорошо,— улыбнулся Кешелава.— Можно вас пригласить на танец?
— Не сердитесь, пожалуйста… Я устала, мне бы до подушки добраться…
Кешелава отошел к метрдотелю, и через пять минут на стол принесли десять бутылок коньяка.
Леночка заметила, как Михаил Григорьевич затравленно посмотрел на оператора, тот — на заместителя директора картины Гехтмана, а Гехтман в свою очередь — на Нодия. Эти десять бутылок составляли месячную зарплату режиссера-постановщика, который выбрал под аванс в бухгалтерии денег на три месяца вперед. Нодия чуть кивнул на Кешелазу — мол, это он заказал, все в порядке, никому из нас платить не придется.
— Позвольте еще одно слово? — обратился Кешелава к тамаде.— Я понимаю, что нарушаю очередность, но я коротко…
— Слово Виктору,— сказал оператор.— Второй дубль,— добавил он под смех группы.— Первый был слишком длинный, да и Михаил Григорьевич оказался не в фокусе.
— Я хочу просить всех наполнить бокалы и поднять их за здоровье очаровательного человека, нежной женщины и великой артистки, которая покоряет сердца и умы зрителей! За Леночку! Она сказала сейчас, что очень устала, но этот коньяк взбодрит ее, придаст сил для того, чтобы и завтра продолжать прекрасную работу, которая никого не оставляет равнодушным…
Кешелава выпил первым — до конца и посмотрел на Леночку. Она улыбнулась:
— Не сердитесь, Виктор, но я коньяк не пью… Я вообще непьющая…
— Совсем ничего?
— Глоток шампанского — это моя доза… Спасибо вам, не сердитесь, бога ради…
Кешелава снова отошел к метрдотелю, и через несколько минут на стол принесли дюжину шампанского.
— Этот инженер,— сказал Михаил Григорьевич оператору,— не иначе как по совместительству пишет сценарии. Двести за коньяк плюс шестьдесят за шампанское — это почти одна болгарская дубленка.
Михаил Григорьевич любил красиво одеваться. Несмотря на то что ему шел шестой десяток (он только пять лет как перешел из разряда «молодых» режиссеров в многочисленную лигу «средних»), в нем осталась неистребимая, прямо-таки юношеская страсть к одежде. Ему принадлежало изречение, ставшее хрестоматийным: «Пустите меня в районный магазин готового платья, и я скажу все про здешнюю область». После получения постановочных он ездил в Прибалтику, в маленькие районные магазинчики, и там покупал носки, рубашки и материал для костюмов.
«Если бы он так же думал о кинематографе,— сказал о Михаиле Григорьевиче директор студии,— как о костюмах и соусах (приготовление соусов было хобби Михаила Григорьевича), он бы, глядишь, выбился в пристойные режиссеры».
— Вы обязаны выпить глоток, — Сказал Кешелава, наливая Леночке шампанское в высокий бокал,— это — солнце, во-первых, здоровье, во-вторых, и, наконец, в-третьих, это творчество!
…Разъезжались из «Эшер» около двух — Кешелава попросил музыкантов задержаться, и еще часа полтора, уже после того как разошлись все гости, в ресторане шло веселье.
Кешелава все же уговорил Леночку потанцевать с ним. Он танцевал по старинке, далеко отведя левую руку и прижимая к себе Леночку тыльной стороной ладони.
— Простите за нескромный вопрос, Леночка… Сколько вам платят в театре?
— Сто двадцать.
— Сто двадцать за спектакль? Леночка устало посмеялась:
— В месяц, в месяц…
— А за картину?
—Моя ставка — двадцать пять рублей за съемочный день. Здесь у меня будет дней двадцать.
— Экономим на мелочах,— вздохнул Кешелава,— не думаем о престиже. Я бы платил вам сто рублей в день, Леночка.
Актриса улыбнулась:
— Я бы стала миллионершей, а это плохо…
— Почему?
— Потому что это убивает творчество.
— Ну, не знаю, лично мне, когда я сыт, лучше работается… Простите, Леночка, а вы замужем?
— Замужем.
— Я бы на месте вашего мужа умер от ревности—такая красивая женщина разъезжает одна…
Метрдотель подошел к Кешелазе и сказал:
— Извините, дорогой, но уже очень поздно…
Кешелава полез за деньгами, но метрдотель отрицательно покачал головой:
— Нет, спасибо… Последняя машина уходит, мне пора домой…
По дороге в Сухуми пели песни — так громко, что шофер, лишенный возможности выпить сегодня вечером, обернулся и зло сказал:
— Тише, пожалуйста, у меня перепонки лопнут. Кешелаза протянул ему бутылку коньяка:
— На, милый, выпьешь дома, а сейчас не сердись, люди гуляют… Он проводил Леночку до дежурной по этажу, взял ключ от ее
номера, отпер дверь, пропустил актрису вперед и, пока она включала свет, быстрым, кошачьим движением запер за собой дверь. Леночка удивленно обернулась.
— Я у вас останусь,— сказал Кешелава.— Не будете возражать?
— Вы с ума сошли. Уходите сейчас же.
Кешелаза достал из кармана пиджака несколько крупных красных гранатов. Он поиграл ими в ладони и положил камни на столик возле кровати.
— Каждый стоит сто рублей, Леночка. Их здесь тринадцать. Я люблю это число. Через два часа я уйду.
— Уходите прочь! — сказала Леночка.
— Нет. Зачем же?
Он подошёл к ней и, обняв, сильно привлек к себе. Леночка уперлась локтями ему в грудь и сказала:
— Я сейчас закричу…
— Ты не закричишь, лапочка… Зачем тебе нужен скандал? Что твой муж обо всем этом подумает? Ты же сама меня впустила… Разденься, Леночка, давай по-хорошему…
— Пустите меня…
— Нет, Леночка, я не могу тебя пустить…
— Но я же не смогу раздеться…
— Вот умница,— сказал Кешелава и разжал руки, но в ту же минуту Леночка выбежала на балкон.
— На помощь! — закричала она что было сил.— На помощь! Ко мне!
В номерах стал загораться свет. Из соседней комнаты на смежный балкон выскочил старик грузин.
— Что случилось?! Что такое, девушка?! Что случилось?!
— Что такое? — крикнул снизу дежуривший на- площади милиционер.— Что там у вас?!
— Сюда! Скорей сюда!
Она кричала и все время боялась, что снова ощутит тонкие, длинные руки этого парня на своем теле, но в номере хлопнула дверь, и когда к ней прибежали запыхавшийся милиционер, полураздетый оператор и ассистент Нодия, в номере никого не было, только остро высверкивали три красных камушка, лежавшие на стеклянном столике возле кровати.
ФАКТОР ВРЕМЕНИ
«В то время, когда следователь УМВД, вызванный в гостиницу участковым уполномоченным Торадзе, допрашивал потерпевшую, раздался телефонный звонок, и человек, не назвавший себя, сказал Тороповой Елене Георгиевне, что если она донесет милиции про камни, то он ее зарежет. Он предложил ей взять оставшиеся камни себе, но не говорить, что камни принадлежат ему. Следователь попросил Торопову не опускать трубку на рычаг. Оперативные работники установили, что звонили из телефона-автомата № 679 около кафе «Мерани».
Выделенные по поручению следователя горотделом спецгруппы блокировали вокзал и выезды из города по шоссе, пользуясь словесным портретом Кешелавы, составленным после допроса оператора картины т. Рыбина А. К., ассистента режиссера т. Нодия Ш. У. и актрисы Тороповой Е. Г. Однако никто, похожий по приметам на Кешелагу, из города этой ночью не выезжал.
Зам. начальника райотдела майор милиции Л, Гогия».
«МВД СССР. Тов. Костенко. Сообщаем, что экспертиза НТО Сухумского горотдела милиции после проведения исследования на выявление степени ценности камней граната (дело № 12—75-а) обнаружила на трех камнях следы снотворного, идентичного тому, о котором вы разослали ваши запросы 15.8.1971.
Начальник отдела уголовного розыска горотдела УМВД майор милиции Шервашидзе».
«МВД СССР. Тов. Костенко. Сообщаем, что приняты меры к установлению места пребывания гражданина Кешелавы. Розыск начат по всем районам ГССР. Установлено 38 человек с этим именем и фамилией. Список прилагаю.
Зам. нач. угро МВД ГССР полковник Сухишвили».
Степанова разбудил телефонный звонок.
— Митя, привет, это Костенко.
— Здравствуй, старичок…
— Я не разбудил тебя?
— Что ты… Я начинаю трудиться с шести.
— Ну, слава богу… А то я испугался — у тебя голос сонный… Слушай, мне надо к тебе подъехать. Можно?
— Идиот… Что значит — «можно»?
— Это я демонстрирую уважение уголовного розыска к труду литератора.
— Ну, извини…
— Да нет, пожалуйста… Значит, я через двадцать минут у тебя.
— Голодный?
— Сытый.
— Жду.
Костенко часто повторял любимую фразу Степанова: «Точность вежливость королей». Он приехал ровно через двадцать минут.
— Як тебе на полчаса, старина. Ты мне нужен в качестве эксперта по кино.
— Что-нибудь интересное?
— Начнет проясняться — расскажу… Помоги с кинематографом, Митя…
— Никто не в состоянии помочь кинематографу,— пошутил Степанов.— Даже уголовный розыск. Что именно тебя интересует?
— Меня интересует, например, что вменяется в обязанности ассистенту режиссера?
— Актеры и реквизит.
— То есть?
— Ну, вот завтра у тебя съемка, а тебе нужно пригнать в кадр слона. Ассистент едет в зоопарк, интригует с директором, сует бутылку смотрителю, обещает достать английские туфли жене бухгалтера и привозит слона. После этого на него кричит директор — почему он уплатил больше нормы смотрителю, а режиссер кричит на директора и предлагает ему самому сыграть роль слона, а оператор сообщает, что солнце ушло, съемка в этот день отменяется, и ассистенту объявляют выговор.
— Смешно… У тебя веселое настроение, Митя, это хорошо. Я бы посмеялся вместе с тобой, но у меня самолет. А мне надо выяснить, кто в киногруппе имеет больше всего контактов с людьми… По-твоему — ассистент?
— Нет, отчего же… Заместитель директора картины… Ему приходится иметь дело с транспортом, администрацией отеля и ресторана, с исполкомом той местности, где проводят натурные съемки… Ты не темни, Слава, не темни… Что, сперли какую-нибудь картину? В нашем кинематографе это не так уж трудно сделать.
— Да? Почему?
— Потому что организация кинопроизводства аховая. Можно снимать фильм в два раза быстрей и в три раза дешевле.
— Почему же не снимают?
— Реформа кинематографа не коснулась. Директор картины не может, к примеру, купить яиц на базаре, если режиссеру нужны для съемки яйца. Он обязан заказать эти самые яйца в мастерской, и каждое яйцо будут вытачивать из дерева, красить нитрокраской, и оно будет стоить пять рублей, но это ведь безналичные расходы… Боятся дать в руки директору деньги — как бы в нем не проснулся зловещий дух предпринимательства.
— Скажи, а оператор перед тем, как начать съемку, может опробовать аппаратуру и пленку?
— Зачем? Будет перерасход пленки, его лишат премии… И потом, за этим следит второй оператор…
— Значит, случайные люди, которые стояли на площадке во время съемок, в кадр попасть не могут?
— Ты не хочешь задавать такой вопрос оператору, чтобы не показаться профаном?
— И все-то ты знаешь, Митя… Прямо — Шерлок Холмс.
—Случайные люди могут попасть на пленку, Слава… Только скорее всего они попадут на пленку фотографа группы. Он обязан снимать каждую мизансцену. Вполне вероятно, что кто-то из посторонних может оказаться на втором плане.
— Во время съемок на площадке находился человек, совершенно посторонний. Потом он исчез. А он мне очень нужен.
— Поговори с гримерами. Покажи им сотню фотографий и попроси отобрать те, где есть сходство — хотя бы типажное. Попроси их загримировать актера под твоего подопечного… Если на съемке был художник и он общался с тем гражданином «икс», попроси его набросать портрет по памяти.
— Вот он,— сказал фотограф группы Константинов, достав из закрепителя сильно увеличенный снимок.— Видите, вокруг Леночки вертится… А мне как раз надо было сделать ее фото — гримеры ей прическу уже два раза спутали. То она в кадре с косой, а то с завивкой…
Костенко снова посмотрел на портреты Кешелавы, которые ему по памяти сделал художник.
— Похож, а? — спросил он.— Так ухватить… Молодец ваш художник… Вы эту пленочку мне передадите на пару часов, ладно?
— Хорошо…
— И не надо говорить, что мы с вами тут Кешелаву нашли…
— Понятно.
— Аи да художник,— повторил Костенко,— аи да глаз-ватерпас…
— Глаз-ватерпас — это когда водку точно разливает…
— Каждый понимает слово в меру своей испорченности,— посмеялся Костенко и, забрав пленку, поехал в горотдел милиции.
Через пять часов после того, как в Москву был отправлен портрет Кешелавы, по областным управлениям внутренних дел было разослано двести фотоснимков человека, который интересовал следствие…
— Товарищ Нодия, попробуйте восстановить в памяти, каким образом с вами познакомился Кешелава?
— На съемочной площадке, товарищ Костенко, это было на съемочной площадке… Мы снимали сложный кадр, с подъемного крана, а он стоял рядом со мной и говорил, какой это каторжный труд — кино…
— А каким образом он оказался с вами в ресторане? У вас был какой-нибудь праздник?
— Да какой там праздник… Кончили работу, до города ехать час, решили скинуться и поужинать в «Эшерах». Нас было человек пятнадцать, по рублю с носа — хороший стол можно сделать… Мы народ демократичный — не спрашивать же с каждого личный листок по учету кадров…
— Кешелава ничего вам о себе не говорил?
— Сказал, что он инженер, приехал сюда отдохнуть.
— А где остановился? Он не говорил вам, где остановился?
— Нет… Собственно, зачем ему было говорить об этом, если я не спрашивал?
— Логично. Теперь вот что… Он не говорил вам о своей узкой специальности? Инженер — это слишком общо…
— Он говорил… Он сказал, что занимается холодильными установками…
— Занимался? Или занимаюсь?
Нодия нахмурился, вспоминая, потом задумчиво посмотрел на Костенко и ответил:
— «Занимался». Он сказал «занимался»… Я понимаю, куда вы гнете, товарищ полковник… Хитрая работа… Он сказал — «занимался»…
— Вот видите, как хорошо вы меня понимаете… Давайте-ка теперь сами помозгуйте в этом направлении… Как это у Чехова — «подробность сестра таланта»? Так, кажется?
— Одет он был очень изысканно… Не так, как одеваются пижоны, а очень скромно и дорого… Наша костюмерша, помню, сказала, «Так теперь шьют только три мастера, в Союзе»…
— Любовь Трофимовна, кто, по-вашему, шил костюм Кешелаве?
— Откуда ж я знаю, товарищ полковник… Я не Мессинг… Лучший наш закройщик делал — это точно… А таких — раз, два и обчелся…
— Давайте загибать пальцы…
— Что? — удивилась женщина.
— Раз, два и обчелся… Вот и начнем счет…
— Замерка…
— Что? — теперь удивился Костенко. — Какая замерка?
— Это фамилия закройщика в Москве… Замерка… Великолепно работает… Милютин и Гринберг в Ленинграде, Калнин в Риге и Тоом в Таллине… Да, еще Куров хорошо шьет во Львове, и Нимберт в Одессе…
— Вы говорили Нодия, что теперь так шьют только три мастера… — Не помню я, что ему говорила…
— Ну, хорошо… А кто лучше всего шьет?
— Замерка, Гринберг и Милютин,— сразу же ответила женщина, и Костенко не мог скрыть улыбки.
«Все-таки логика у них особая,— подумал он,— и с этим ничего не поделаешь. Сплошные импульсы й чувствования…» •
— Ну, а Кешелаве кто из этих трех мог шить?
— Трудно сказать… Плечи у него вшиты по-американски, во внутрь, а так теперь умеет только Замерка делать… Но Замерка больше любит букле, тяжелое букле для пиджаков, у него всегда Муслимчик себе букле заказывает, это фигуру утяжеляет, для худых это хорошо, торс кажется могучим… И цвет Замерка обычно предлагает нейтральный—серый, пепельный, коричневый… А у Шалавы у этого синий костюм, гладкий, миллионерский…
— Почему миллионерский?
— Скромный… Очень скромный, но зато все линии отработаны, и разрезы — шлицы, мы называем — замечательно сделаны, и пуговицы плоские, из ореха, а не пластмассовые. И — главное — цвет… Синий гладкий цвет и есть сейчас самый миллионерский… Наш актер рассказывал, как он в Нью-Йорке пошел на Уолл-стрит миллионеров смотреть… Ну, вышли там из банка два мужика — все в переливных костюмах, ботинки на каучуке, подошва в ладонь, рубашки розовые, сели в красный автомобиль, и наш актер решил, что это и есть миллионеры, а ему спутник его, американец, показал на старикашку в синеньком костюме, который такси ловил: «Это, говорит, настоящая акула бизнеса, а те пижоны — мелкие клерки».
Костенко посмеялся вместе с. женщиной —видимо, она очень любила эту историю про скромного миллионера и часто ее рассказывала,— а потом спросил:
— Любовь Трофимовна, а вот на мне какой костюм — можете определить?
— Венгерский, «Венэкс», пятьдесят второй размер, третий рост.
— В милицию не хотите перейти работать?
— У вас платят мало.
— Старыми сведениями пользуетесь… Женщина улыбнулась:
— Тогда подумаю, товарищ полковник… Могу еще сказать, что пиджачок вам перешивали — обузили спину и рукава укоротили.
С закройщиками работали параллельно—Костенко в Москве, подполковник Тимофеев в Ленинграде и майор Продольняк в Львове.
Аппарат министерства работал четко, как отлаженная машина, подчиненная некоему «закону ритма». Дежурные сидели у аппаратов «ВЧ» на связи с республиками и областями; люди в научно-техническом отделе в пятый и в десятый раз искали хоть малейшую зацепку, наново анализируя всего, что было привезено с мест происшествия; оперативные группы дежурили во всех автомагазинах страны; были блокированы аэродромы и вокзалы; работники архивов подняли досье на всех тех, кто когда-либо был связан с автомобильными аферами и мошенничеством. Преступники были обречены — все решало время, ибо ум, воля, опыт десятков и сотен людей были подчинены одной, локальной задаче — найти бандитов и обезвредить их.
— Гражданин Замерка,— сказал Костенко, убирая в папку объяснение закройщика,— теперь мы с вами перейдем ко второй стадии нашего разговора.
— Можем перейти хоть к третьей, товарищ полковник, но от этого существо дела не изменится — я не смогу вам написать ничего нового… Не могу только не высказать удивления: неужели у вас нет более важных дел, чем проверять доносы соседей по лестничной клетке?
— Пишут? — поинтересовался Костенко.
— По-моему, у вас здесь на меня скопилась «Война и мир» из доносов.
— Надо бы почитать…
— Неужели государству — это я так, в порядке заметок на полях — будет так плохо, если мне позволят шить на дому?
— По-моему, нет.
— Вы согласны, но попробуй-таки я шить, как меня сразу же тянут за хобот в финотдел и облагают таким налогом, который больше всего заработка.
Костенко устало посмеялся:
— Ладно. В отправных экономических оценках происходящего мы с вами сходимся… Теперь перейдем к шершавому языку юриспруденции. Сейчас я вам предъявлю к опознанию фотографию преступника. У него костюм сшит первоклассным мастером… Первоклассным…
— Помилуйте, помимо меня в Москве есть еще двадцать первоклассных мастеров!
— С ними я тоже побеседую… Только сначала позвольте мне закончить, ладно? Посмотрите на это фото.
— Очень похож на Отара Чиладзе… «Отец солдата», помните?
— Помню. Только это не Отар Чиладзе.
— А я и не сказал, что это Отар. Я сказал, что он похож на Отара, на этого гения и умницу…
— Этот человек у вас не шил себе костюм? Он убийца и грабитель. Поверьте мне, я не хочу ловить вас, товарищ Замерка. Просто этот парень очень опасный бандит… А у нас мало данных, за которые мы смогли бы зацепиться…
— Товарищ полковник, клянусь вам, я не видел его ни разу в жизни.
— Я верю вам.
— Почему вам мне не верить?! Слушайте, дайте подумать до завтра, и я подскажу, с кем стоит о нем поговорить… Он шил из своего материала или пришел к мастеру голый?
Костенко вздохнул:
— Милый человек, если б мы знали, с какими материалами он ходит…
Зазвонил телефон, и Костенко понял, что это наверняка кто-то из Львова или Ленинграда — интуиция в нем за эти годы развилась
точная.
— Алло, товарищ полковник, это Тимофеев. У Кешелавы на послезавтра назначена примерка. Он заказал себе два костюма как раз накануне того дня, когда вы приезжали по последнему эпизоду. То есть в день перед ленинградским убийством он пришел к Милютину шить обновки…
(Продолжение следует).
«Человек и закон»